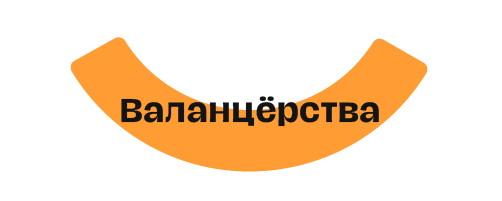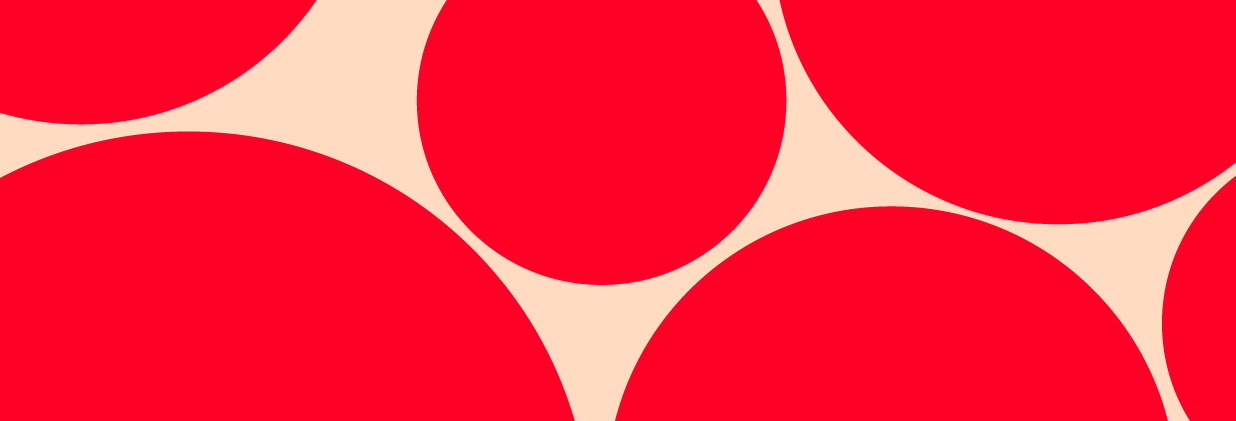Раздражающий, шумный, порой даже абсурдный экологический акционизм редко оставляет зрител_ьниц равнодушными. Когда на картину Ван Гога летит томатный суп, это кажется вызовом не только музейным охранникам, но и самому здравому смыслу. Зачем они это делают?
В этой статье разбираемся, почему для одних радикальный экоактивизм — это отчаянная попытка спасти планету, а для других — вандализм, как связаны суп на картине Ван Гога и климатический кризис и можно ли считать такие акции оправданными, если их цель — встряхнуть общество.
Содержание:
Зачем вообще экологии акционизм?
Протестующие люди с баннерами на крышах зданий, перекрывающие дороги или выливающие суп на картины, могут показаться нам далёкими от экологии и заботы о природе. Пока одни проводят исследования, публикуют отчёты, лоббируют изменения, дают рекомендации и тихо работают над улучшением природоохранной политики, другие — шумят и создают неудобства. Как у них вообще может быть общая цель?
Но увы, когда учёные тихо и вежливо предупреждают о надвигающейся экологической катастрофе, мир часто лишь вежливо кивает и продолжает жить по-старому. Тогда на сцену выходят те, кого сложно не заметить. Их цель — сделать то, что сухим отчётам и письмам в министерства редко удаётся: встряхнуть общество, заставить заговорить о проблеме и не дать ей затеряться в бюрократических папках.
На вопрос журналиста «Зелёного портала», почему экоактивист_ки выбирают именно гражданское неповиновение, а не просвещение или лоббизм, представитель экодвижения Extinction Rebellion (XR) Polska отвечает:
Потому что лоббизм и адвокация не сработали. Мы всё глубже увязаем в кризисе, а времени всё меньше. Методы XR опираются на многолетние исследования, выявлявшие, какие формы действия наиболее эффективны. И это — гражданское неповиновение.
Дальше в статье мы рассмотрим аргументы противни_ц и сторонни_ц экоактивизма, но прежде давайте вспомним несколько акций, которые всколыхнули общество больше всего.
Неоднозначные акции экоактивисто_к
Приковывание себя к деревьям
Этот метод особенно распространился в 1980–1990-х годах в США, Канаде и Австралии. Активист_ки, которые защищали леса, буквально жили на платформах, закреплённых на ветвях, или приковывали себя металлическими цепями к стволам, чтобы помешать вырубке.


Проливание краски на памятники или картины

14 октября 2022 года активистки из Just Stop Oil Фиби Пламмер и Анна Холланд вскрыли две банки томатного супа вблизи картины Ван Гога «Подсолнухи» (1888) и облили стеклянное покрытие, под которым находилась работа. После чего приклеили себя к стене и задали публике вопрос: «Что важнее — искусство или жизнь?»
Картина не пострадала (активист_ки выбрали ее в том числе и потому, что знали, что работа защищена стеклом), но тем не менее Пламмер и Холланд были осуждены за порчу имущества. Пламмер приговорили к 2 годам тюрьмы, а Холланд — к 20 месяцам. Против приговора выступил ряд художни_ц, кураторо_к, активист_ки Greenpeace и Last Generation, но приговор не был отменён.
Блокировка дорог, мостов и другой инфраструктуры
С 2018 по 2021 год активист_ки международного экодвижения Extinction Rebellion (XR) организовывали массовые акции, блокируя ключевые мосты и улицы крупных городов. Активист_ки цеплялись к транспорту и скамейкам, устраивали «сит-ин»*, декларировали экологические требования и создавали протестные лагеря.
Протесты вызывали серьёзные перебои в движении: в акциях участвовали тысячи человек, грузовики застревали в пробках, а общее число затронутых достигало полумиллиона.
Реакция общества была неоднозначной: одни восхищались решимостью активисто_к, другие — особенно водител_ьницы и спешащие по делам горожан_ки — раздражались. Полиция арестовала сотни участни_ц.

Залезание на здания, памятники или нефтяные платформы
Greenpeace неоднократно устраивал акции прямого действия, проникая на нефтяные платформы и в офисы корпораций.

Были и акции в штаб-квартирах нефтяных гигантов, например, Shell, BP и ExxonMobil, где активист_ки требовали прекратить финансирование лоббистов, отрицающих изменение климата. Эти действия вызывали широкий резонанс: сторонни_цы видели в них смелый способ привлечь внимание к экологическим угрозам, противни_цы — нарушение закона и риск для безопасности.
Вандализм или спасение планеты: кто прав в экоактивизме
Возможно, весь мир делится на тех, кто поддерживает такие акции, и тех, кто считает их бессмысленными и вредными. Давайте разберёмся более детально в аргументах одних и других.
Критики радикальных экологических акций:
По мнению противни_ц радикального экоактивизма, эффективнее разрабатывать новые технологии, поддерживать «зелёный» бизнес и лоббировать экологические законы.
Некоторые скептики утверждают, что радикальные акции могут быть даже выгодны нефтяным корпорациям, так как портят репутацию всего экологического движения и отталкивают «умеренных» сторонни_ц, которые не хотят быть причастны к этому «безобразию».
«Каждый раз, когда вы протестуете в Лондоне, все мои сотрудни_цы не могут выйти на работу»
Массовые блокировки дорог и мостов (как, например, во время акции Extinction Rebellion в Лондоне) создают серьёзные пробки. Тысячи людей не могут попасть на работу, медики — к пациент_кам, школьни_цы — в школы. Пострадавшие часто не имеют отношения к экологическим проблемам, но становятся заложни_цами протеста, что злит еще больше.
Часто люди особенно возмущены тем, что страдают произведения искусства. Даже если картины не повреждены, они считают подобные акции вандализмом и преступлением. «Музеи и картины — общественное благо, а не «виновники» кризиса».
Сторонни_цы экологического радикализма:
Лишиться возможности посмотреть картину Ван Гога из-за того, что её стекло облили супом, — это временное неудобство, которое никак не угрожает вашей жизни и благополучию.
А вот деятельность нефтяных корпораций уже сегодня приводит к последствиям, с которыми живут миллионы людей в менее привилегированных регионах: загрязнённые вода и воздух, разрушенные экосистемы, утраченные дома из-за наводнений или засух, болезни, вызванные промышленными выбросами. Для них экологический кризис — не абстракция и не предмет музейных дискуссий, а суровая повседневность. На этом контрасте активист_ки и строят своё послание:
ценность человеческой жизни и природы неизмеримо выше, чем комфорт и спокойствие зрител_ьниц в музее.
Важно понимать: жител_ьницы западных стран живут в относительной привилегии. Мы почти не видим последствий климатического кризиса: мусор вывозится в другие страны, нефть добывается и разливается где-то вдали, и последствия разгребают люди тоже где-то там, в других регионах.
Из-за того что проблема не ощущается так остро, может казаться, что ее нет или она надумана. От этого и акции раздражают еще больше, будто поводы для них высасываются из пальца.
Но проблема есть — просто мы её не ощущаем напрямую. В Европе и Северной Америке экстремальные погодные явления происходят, но инфраструктура, технологии предупреждения и адаптация смягчают их воздействие. Для сравнения, страны Африки, Южной Азии и Латинской Америки страдают от засух, наводнений и ураганов гораздо сильнее и имеют меньше ресурсов для защиты.
Многие крупные музеи и галереи получают спонсорскую поддержку от нефтегазовых компаний или связанных с ними фондов. Известно, что Британский музей, «Тейт Модерн», Национальная портретная галерея (Лондон) и «Лувр» сотрудничали с нефтяными компаниями BP, Shell и Total.
Для экоактивисто_к это важный аргумент: культурные институции, заявляющие о своей миссии «служить искусству и обществу», одновременно помогают «отмывать» репутацию корпораций, чья деятельность разрушает экосистемы и усугубляет климатический кризис.
Кроме того, сами арт-институции оставляют заметный экологический след: от перелётов и роскошного образа жизни состоятельных коллекционеро_к до затратных и экологически неустойчивых выставочных проектов.
В глазах сторонни_ц радикальных действий всё это — элементы одной и той же системы, которая ставит престиж и прибыль выше здоровья планеты.
Активист_ки признают, что их методы — крайние, но считают их необходимыми, поскольку привычные формы диалога, увы, не привлекают внимания и быстро теряются в бесконечном потоке новостей.
Некоторые из активисто_к говорят, что, конечно же, их беспокоит, что такое количество людей их ненавидит, но они проводят акции не для того, чтобы понравиться кому-то, а чтобы заставить общество и СМИ говорить о проблемах*.
И, к сожалению, только радикальные акции помогают попасть экологическим вопросам на первые страницы газет. Так что, если для этого нужно действовать громко и неординарно, пусть даже вызывая раздражение у части публики, — это, по их мнению, оправданная цена за шанс донести проблему до миллионов.
Помогают ли акции решать экологические проблемы?
Мы знаем о климатических рисках, о наводнениях, засухах, исчезновении видов, но правительства и экономика реагируют на эти проблемы очень медленно. Это происходит потому, что
корпорации и политические деятел_ьницы сопротивляются, есть страх перед радикальными реформами, а также люди не хотят менять свой привычный потребительский образ жизни ради долгосрочных изменений.
Акции не решают проблемы напрямую, но ставят их в центр внимания. Они могут повлиять на общественное мнение и политическую повестку (например, в некоторых странах включение экологической темы в выборы или принятие новых законов о выбросах стало возможным именно под давлением массовых протестов и медийного шума). Но для устойчивого эффекта нужны системные изменения и массовое вовлечение.
Акционизм в экодвижении — это не только про шок зрител_ьниц. Это и про отчаяние активисто_к. Когда люди видят, как нарушается климат, исчезают леса и губятся жизни людей, а в ответ — тишина, хочется кричать. И кто-то действительно начинает кричать: на улицах, в музеях, даже в офисах корпораций.
Вопрос не только в форме действий, но и в том, почему общество иначе не реагирует на очевидный кризис. И возможно, нам стоит перестать спрашивать: «Почему они так делают?» — и начать спрашивать: «А что сделали политические элиты, чтобы им не пришлось кричать?»

Статья создана в рамках проекта «Together 4 values — JA», который совместно реализуют организации ІншыЯ і Razam e.V. при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии.