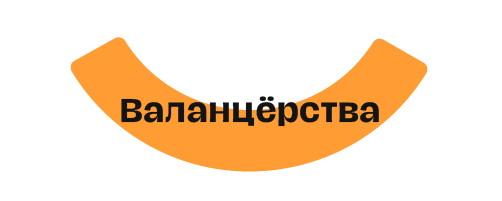Паша Джежора — квир-активистка и режиссерка — родилась в 2004 году в Берёзе. В возрасте восьми лет у нее в впервые проявилось ментальное расстройство — астенический невроз. Именно такой диагноз поставил тогда невролог. Со временем ситуация обострялась, и, когда Паше было 14, ее родители решили обратиться в психиатрическую больницу. Несмотря на репутацию «лучшей клиники в стране», психиатрическое отделение, куда попала Паша, только ухудшило ее состояние, к которому добавилось посттравматическое стрессовое расстройство. Поговорили с Пашей о последствиях той госпитализации, психотерапии и о том, почему важно тщательно выбирать психиатр_инь и психотерапевто_к.

Рассказывает
Паша Джежора
Начало заболевания. Диагноз
«Мои родители долгое время не обращались за медицинской помощью для меня: считали, что это позор, что все узнают и будут их стыдить»
Это довольно иронично, потому что у меня наследственный невроз: у матери — связанный с паранойей, а у бабушки — с перевозбуждаемостью.
У меня невроз начал проявляться в восемь лет. У меня тогда стало сильно болеть сердце, и меня повели обследоваться к врачу. Он сказал, что у меня проблемы со щитовидной железой, с сердцем и что у меня астенический невроз*. Родители это проигнорировали.
* Основная жалоба при астеническом неврозе, как это описано в Международной классификации болезней 10 пересмотра (под кодом F48.0 — неврастения), — это повышенная утомляемость после умственной нагрузки: истощение, рассеянность, затруднения с концентрацией внимания.
При другом варианте этого расстройства доминирует физическая слабость, боль в мышцах и невозможность расслабится даже после минимальной физической активности.
Оба типа сопровождаются неприятными физическими ощущениями, головокружением, напряженной головной болью и общим ощущением нестабильности. Кроме того, характерны раздражительность, потеря способности радоваться и слабовыраженные симптомы депрессии и тревоги.
В МКБ-11 (опубликована в 2018-м, вступила в силу в 2022-м) диагноз «неврастения» полностью исключен. Современная медицина считает, что границы диагноза в МКБ-10 были слишком размыты: сложно было отличить неврастению от депрессии, генерализованного тревожного расстройства или синдрома хронической усталости.
Со временем становилось всё хуже и хуже. Я тогда профессионально занималась конным спортом и начала задыхаться на коне, терять сознание. У меня банально не получалось держать мышцы в тонусе. Всё стало очень плохо в мои 11 лет: тогда у меня полностью исчезли все эмоции.
«Я ничего не чувствовала на уровне эмоций, но ощущала всё физиологически»
У меня будто все эмоции не проходили через «голову», а сразу шли в тело. Например, ненависть к себе ощущалась как сильное напряжение в мышцах — обычно в руках. Если была тревожность, то болело сердце. Если тяжело думала о чем-то — болели мышцы лба. Была такая боль и напряжение, что их невозможно было снять болеутоляющими. Обычно я прокатывала лоб костяшками пальцев, чтобы как-то разжать мышцы, чтобы так сильно не болело.
Это было очень страшно. У моих ровесников — начало подросткового возраста, всё ярко, а у меня — мало того что всё серое, так еще всё вокруг будто одной и той же текстуры, с одним и тем же запахом. Родители говорят, «ты психически нестабилен», а я стабильная как кардиограмма мертвого человека.
«Так я просуществовала до 13 лет, пока не заболела анорексией»
Мне понравилась девушка, и я увидела в ее подписках паблик «Типичная анорексичка». Я тогда весила 45 кг при росте 165, но решила, что мне нужно весить 38 кг и начала экстремально худеть.
Это всё привело к тому, что весной 2018 года, через полгода анорексии, у меня обострился астенический невроз. Это было очень страшно, потому что я не могла плакать, а просто сидела, задыхалась и смотрела в одну точку. За одну неделю я скидывала 5 килограмм, за вторую — набирала. У меня очень сильно расшаталось сердце. И тогда мать решила «сдать» меня в психиатрическое отделение 4-й Городской детской клинической больницы в Минске.
Психиатрическое отделение
«Я из Берёзы, но мать через какие-то связи договорилась, чтобы меня положили в Минск»
Ей сказали, что это хорошая клиника: мол, «не Новинки». Но по факту эта клиника была значительно хуже, чем Новинки. Я слышала много плохих историй о каких-то районных клиниках, но в большинстве из них по крайней мере можно выходить на улицу.
Нам выходить на улицу было запрещено. Нас не выводили на прогулки. Запрещали открывать окна, даже на микропроветривание. Это был ад.
Выйти можно было, когда к тебе приезжают родители. Однако это было очень ограниченное время, когда можно выйти погулять. Там было много детей из детских домов, и они вообще на улицу не выходили.
Ходить по отделению просто так тоже было запрещено. Было ощущение замкнутости.
А это был первый месяц лета, я в Минске, за окном — парк, зеленые деревья, синее небо. А я сидела за этой решеткой и не понимала, что это за неадекват, что я не могу выйти на улицу

В отделении не было разделения по возрасту и полу. Там были как четырехлетние девочки, так и парни, которым было почти 18. Все были вынуждены проводить время вместе.
Там были два классных кабинета. Один из них был отремонтирован с помощью Евросоюза. Я смотрела на эту табличку с флагом Евросоюза и думала: «Если бы они знали, что тут происходит, возможно, они бы нас спасли».
Распорядок был такой, что мы просыпались, были какие-то «три копейки» времени почистить зубы и умыться. Потом мы шли есть и оставались в первом кабинете. Там сидели все: и дети, и подростки.
Если кто-то буянил, его просто привязывали к металлической скамейке на растяжку. И было не важно, кто это: четырехлетний ребенок или подросток
Привязывали не к кровати, а просто к скамейке какими-то жесткими плетеными лентами на узлы. Могли еще при этом вколоть аминазин*.
Бывало, что видишь, что у человека под аминазином распухла и отекла рука, а ты ничего не можешь сделать. Потому что если подойдешь — всё, трэш, могли «настучать» врачине, что ты себя плохо ведешь, а могли тоже вколоть аминазин. Причем аминазина иногда кололи такие дозы, что человек мог спать 24 часа.
Однажды аминазин вкололи девочке, у которой были месячные и не было прокладки. И она просто лежала в этом кабинете целый день, а лужа крови растекалась по её серым спортивкам. Санитаркам, медсестрам — всем было безразлично.
Зачем нас собирали в этом кабинете, не понятно. От нас ничего вроде и не ждали. Мы точно не должны были беседовать на какие-то «неправильные темы» — например, селф-харм, РПП (расстройства пищевого поведения. — ред.) и побеги из дома.
Еще там всегда на максимум был включен телевизор, где шли старые фильмы с одноголосным переводом. Нам всем давали высокие дозы таблеток, и от этого сильно хотелось спать — а там галдел этот телевизор. От этого всего люто болела голова, но болеутоляющих не давали. Даже девочкам во время месячных не давали ношпу: «только аспирин, и всё, успокойся».
В какой-то момент мы у главной врачини отвоевали право не сидеть в этом кабинете, а лежать в своей палате. Мне тогда казалось, что если я ещё хоть немного посижу с этим телевизором и с этими детьми, то просто разгромлю весь класс, хотя я совсем не агрессивный человек. Мы как-то сумели отвоевать это право, так как были типа «эрпэпэшниками» — то есть, не «буйными». Там, к слову, никого не волновало, что у меня астенический невроз, хотя это была моя главная жалоба.
Когда я впервые вошла в это отделение вместе с матерью, то увидела, как огромный парень прижимает к стене девушку и лапает ее
А рядом просто проходят две санитарки и беседуют между собой о рассаде или какой-то дачной фигне. Я смотрю такими вот глазами на свою мать и понимаю, что ей похуй на то, что происходит. И я тогда поняла, что это будет полный пиздец.
Когда какие-то дети с гиперактивностью тебя били и кусали, персонал тоже не реагировал. Зато они начинали как-то реагировать, когда ты лежал и спал в этом кабинете, так как спать там было нельзя.
С нами никакой терапевтической работы не проводилось. В этой клинике я видела психолога два раза: когда поступила и когда выписывалась
Психолог даже не сильно расспрашивал, какие у меня проблемы. Просто давал эти дурацкие тесты: «Нарисуй солнышко. Почему у него такие лучики? Нарисуй человечка. Ты думаешь, это нормальный человечек?» А ты, подросток, сидишь и думаешь: а не хотите со мной побеседовать о том, почему я не могу есть и хочу убить себя?
С врачинями мы почти не беседовали, встречались с ними раз в неделю. Картина была такая: приходишь, говоришь, что тебе плохо и ничего не помогает, спрашиваешь, почему с тобой никто не работает. И тебе говорят: «Ну ты же понимаешь, что пока тебе не станет лучше, тебя отсюда никто не выпустит».
С ними было невозможно поговорить о своем состоянии. Они или просто спрашивали, всё ли у тебя хорошо, а когда ты говорил, что нет, то тебе просто повышали дозы таблеток.
Я поняла, что лечить здесь никто никого не собирается, а у них просто есть план накормить тебя таблетками, и нужно, чтобы это время ты не действовал им на нервы. Всем давали плюс-минус одинаковые лекарства. Это был рисперидон (атипичный антипсихотик, который применяется для лечения психозов, сопровождающихся бредом и галлюцинациями. — ред.), флувоксамин (антидепрессант. — ред.) и что-то еще.
Нам давали по пять таблеток три раза в день, но не говорили, что это. После выписки у меня в карточке было написано, что мне давали только три препарата, хотя я помню, что было пять таблеток и они все по-разному выглядели. Я пробовала некоторые из них найти по внешнему виду, но не получилось.
Я боялась рассказать обо всём матери
Боялась, что если она позвонит в отделение, станет только хуже. Она один раз приехала, и я ей напрямую сказала, что там полный ад. В ответ: «Это лучшая клиника в Беларуси. Тебя быстро выпишут, и всё будет нормально».
Но на самом деле после выписки из этой клиники у меня только сейчас, спустя 7 лет, восстановилась психика.
Так как это клиническая больница, нас заставляли взаимодействовать со студентами-медиками. И это было очень трешово
Ты под этими препаратами, у тебе громадные зрачки, температура 34.5, у тебе только что взяли кровь, и ты просто хочешь лечь и умереть. А тебя в таком состоянии тянут в актовый зал, где сидят 50 студентов-медиков.
Ты стоишь под этим прожектором, тебе слепит глаза, и они начинают задавать тебе кучу вопросов. Чувствуешь себя просто подопытным кроликом.
Я понимаю, что студентам нужно учиться, но зачем вытаскивать пациентов в таком состоянии. Причем нас заставляли это делать — нас не спрашивали, хочешь ли ты.
Анорексиков заставляли есть абсолютно всю еду
Я тогда была веганкой и предложила, чтобы еду мне передавала крёстная, чтобы я просто добирала калораж, но они запретили это делать. Я отжала себе право не есть по крайней мере мясо, но каждый раз за это меня прессовали. Однажды нам недовезли еду, и поэтому на ужин были творог и сосиски. Я ем творог и медсестры такие: «А если бы творога не было, ты бы что, вообще не поела?» Я говорю: «Да». Мне говорят: «А ты понимаешь, что психически здоровый человек не может не поесть?» Я говорю: «Моя мать на завтрак пьет только кофе, и что, она из-за этого психически больная?»
Еще медсестры часто «втирали» о религии
Всё время говорили, что мы грехорожденные дети, нам должно быть стыдно, мы должны молиться, и нам нужно в монастырь. Это привело к тому, что когда я вышла из этой больницы, у меня начались религиозные обсессии. Я начала ходить во все подряд церкви и зачитываться религиозной литературой. Меня отпустило, только когда я из своего города поехала в Украину и сменила атмосферу.

После выписки
Я пролежала в этой больнице пять недель. Выписалась и обнаружила, что вообще ничего не могу
У меня были нулевые креативные способности, не было воли — не силы воли, а просто волеизъявления: я не хотела ровно ничего, чувствовала себя биороботом. Я могла спать целый день. Или просыпалась в десять, ела рис с овощами (на антидепрессантах всё время могла есть только его) и шла гулять на 10 часов. А Берёза — город с населением 30 тысяч человек, — за 15 минут из конца в конец можно пройти. Вот я и ходила кругами по городу часами. Просто без музыки, без ничего.
О социализации вообще речи не велось: я не могла разговаривать с другими людьми. Набрала вес на нейролептиках: не могла даже контролировать свое питание. У меня были компульсивные переедания, когда я могла съесть килограмм риса и килограмм отварных овощей.
У меня началась нарколепсия
Я начала засыпать просто in the middle of nowhere. Первый урок. Я сижу… и вот я уже сплю. Иду из школы домой, и вот я уже сплю просто по дороге домой. Хотя идти было десять минут.
Я пробовала заниматься каким-то творчеством, рисовать — не получалось совершенно ничего. Когда пошли эти религиозные обсессии, я вообще не могла ничего делать. Появилась странная плаксивость: я рыдала и не могла понять, почему рыдаю. У меня было очень странное лицо: такое маскообразное… Мне казалось, что это никогда не закончится.
Я поняла, что больше не могу пить лекарства, которые мне выписали в больнице. Моя мать не хотела, чтобы я прекращала их прием, но когда я просто не пила их неделю, и у меня начался синдром отмены, она наконец поняла, что я их всерьез не хочу пить.
После этого мать отвезла меня в эту клинику снова — на обследование
Это заняло всего два дня, и я там даже не ночевала, но это было адски страшно. Я тогда поняла, что этот страх не просто так.
С момента выписки я думала об этой клинике каждые десять минут — и так последние семь лет.
При любом знакомстве я всегда о ней рассказывала. Она мне постоянно снилась, у меня появился панический страх врачей.
Была ситуация, когда мне была нужна одна бумага в больнице, два друга меня просто затаскивали туда, и им было сложно это сделать, хотя это два двухметровых парня.
Всё это время у меня был страх и ненависть по отношению к врачам и психологам
Мне было дискомфортно сидеть за одним столом со студентами-медиками. Я не могла дружить с людьми этих профессий. Я не могла с ними вообще находиться в одном помещении.
Когда организовывалась какая-то домашняя вечеринка, я уточняла, будет ли там кто-то, связанный с этим всем. Часто думали, что я не всерьез, что когда говорю «меня триггерит» — это значит, что меня «бесит». Но проблема в том, что меня это реально триггерило. Когда я узнавала, что на домашней вечеринке есть такой человек, то меня тошнило 30 минут или из-за паники я забивалась в какой-то угол и не могла оттуда вылезти. Только тогда друзья начинали понимать, что я всерьез.
У меня постоянно были нервные тики, причем сначала мне казалось, что я их могу контролировать, но в августе 2024 года из-за них я полностью утратила трудоспособность. Потому что когда я хоть немного напрягала мозг, то просто падала со стула на пол из-за внезапного сокращения мышц.
Я поняла, что если из этого не вылезу, то просто вскроюсь, потому что не было сил это всё терпеть
Я обратилась в организацию «Феникс», и они нашли мне психотерапевтку. Оказалось, у меня комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (КПТСР)*.
Мой опыт с этой больницей стал почвой для развития КПТСР, и для меня любая травма начала ассоциироваться с этой историей и триггерами.
* КПТСР — комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Одна из наиболее тяжелых и длительных форм посттравматического стрессового расстройства, когда человек сталкивается с длительным и сильным влиянием нескольких травмирующих событий. Это создает пространство для развития «триггеров» или ситуаций, которые способны вызвать сильные эмоциональные реакции, связанные с травмами.
Когда я обратилась к психотерапевтке, мы работали в технике Somatic Experiencing*. Это техника, когда разбирают то, как ты что-то ощущаешь, и это уничтожается.
Где это чувство живет в теле? На что оно похоже? А что противоположность этого? А сейчас представь, что противоположность этого воздействует на то, что ты ощущаешь.
Это очень хорошо сработало со мной, так как у меня всё еще не было эмоций, но были физические ощущения. Также мы работали с разными визуальными образами. Очень тяжело было разобраться с этой больницей, и я с психотерапевткой представляла, что будто прихожу туда, спасаю оттуда себя четырнадцатилетнюю, вывожу ее в безопасное место, после вывожу оттуда всех пациентов и взрываю эту больницу. Тогда меня отпустило.
Я работала с психотерапевткой с октября по апрель. Она очень профессиональная, из Мариуполя, и имеет большой опыт работы с травмой. С нервными тиками мне наконец помог примитивный лайфхак: после каждого тика делать три раза глубокий вдох и глубокий выдох.
Но у меня всё еще осталась неприязнь к врачам и психологам. Когда я хожу на прием — мне нормально, но когда встречаюсь с таким человеком в «реальной жизни», ощущаю неприязнь.
Когда мы с терапевткой об этом беседовали, она сказала, что неприязни — это вообще нормально. Не нужно залечивать всё до абсолютного ноля — это не совсем здоровый перфекционизм.
И я поняла, что для меня у этой неприязни также есть какой-то смысл: психологи были косвенно задействованы в очень неприятных событиях моей жизни, и я понимаю, что если меня ретравмирует человек из этой сферы, то это будет непросто вылечить. Поэтому я выбираю для себя дистанцироваться от врачей за пределами клиники. К врачу я хожу абсолютно нормально и спокойно, но
в «реальной жизни» я выбираю не общаться с такими людьми, чтобы избежать рисков ретравматизации.
Могу сказать, что с серьезными психологическими и психическими проблемами стоит обращаться к врачам с хорошим опытом. В особенности если у тебя ПТСР. Я бы не советовала обращаться к людям, которые ищут пациентов через сомнительный псевдопсихологический контент. К врачам с сомнительной этикой. К районным врачам или просто к врачам из онлайн-сервисов по подбору психологов.
Точно могу посоветовать сервис «Фенікс», оказывающий психологическую помощью беларусам и беларускам внутри страны и за ее пределами. Они помогают активистам, активисткам и людям, сталкивающимся с репрессиями. В «Фениксе» умеют работать с темой травмы, с темой КПТСР, так как это очень популярный диагноз среди беларусов.
Статья создана в рамках проекта «Together 4 values — JA», который совместно реализуют организации ІншыЯ і Razam e.V. при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии.